Короткие новости
Счастье через горе от ума. О книге «Драма жизни Макса Вебера»
Книга Леонида Ионина — первая российская биография Макса Вебера, которая вводит отечественного читателя в круг вопросов современного вебероведения. В центре повествования — любовные отношения немецкого социолога и его психосексуальная конституция. Насколько удачным вышло сопоставление интимных обстоятельств с научным наследием, рассказывает Иван Напреенко.
Бессменный лидер академических рейтингов в жанре «главный социолог всех времен», Макс Вебер не обделен, мягко говоря, вниманием биографов. Пьедестал его памятнику поставила Марианна Вебер: уже через шесть лет после смерти мужа, в 1926 году, вышла ее книга «Жизнь и творчество Макса Вебера». В этой работе, написанной от третьего лица, социолог предстал тем, кого впоследствии канонизировал Карл Ясперс — светочем разума в науке, глыбой героического аскетизма в личной жизни. Десятилетиями этот образ шлифовали последователи и обыватели, греясь в сиянии чистого во всех отношениях гения.
Но уже в конце 1970-х с публикацией ранее неизвестных писем стали известны факты, которые этот образ сломали. Оказалось, что светильник разума охотно затуманивался сладострастными аффектами. Новые обстоятельства принялись жарко обсуждать биографы. Некоторым итогом этих дискуссий стала тысячестраничная биография Йоахима Радкау (2005), где внутреннему миру Вебера уделено особое внимание. К полуторавековому юбилею социолога в 2014 году вышли еще две огромные книги — Дирка Кеслера и Юргена Каубе, причем последнюю два года назад издали на русском. Столетнюю годовщину смерти Вебера в 2020-м отметили очередные биографии, в частности работа Гангольфа Хюбингера, одного из главных немецких вебероведов и издателей полного собрания сочинений социолога, которое собирали с 1980-х, но закончили в том же году.
На русском языке список работ о жизни Вебера несопоставимо короче, но мне известны по меньшей мере три: сомнительный, по некоторым данным, очерк Елены Кравченко (2002), тот самый труд Марианны Вебер (2007) и работа Каубе, которая удачно помещает творчество Вебера в исторический контекст (особенно в малоизвестный для нас контекст Германии 1910-х). В этом ряду книга Леонида Ионина — социолога, профессора ВШЭ, главного отечественного переводчика веберовских трудов — представляется первой российской биографией «буржуазного Маркса», которая вводит отечественного читателя в круг вопросов современного вебероведения.
Ионин обходится без предисловий и не предуведомляет читателя о тактике и стратегии своего изложения — и, вероятно, поэтому книга производит впечатление, которое производит: довольно неожиданное. Конечно, кое о чем говорит аннотация — «автор анализирует жизнь героя во всем богатстве ее проявлений», но о ней тут же забываешь, тем более что внимание на себя переключает ясный и раскованный язык биографа, сейчас так редко пишут. Портреты родителей, детство Вебера — с короткой остановкой на перенесенном в 4-летнем возрасте менингите, возможной причине грядущей «страшной болезни», — проносятся мимо; повествование летит к началу академической карьеры. Читатель догадывается, что перед нами работа о жизни совершеннолетнего Вебера, причем фокус всей истории звучит уже на 29-й странице: «во Фрайбурге [в 1894 году] произошло знакомство с женщиной, которая определит значительную часть жизни самого Вебера и едва ли не главную часть содержания этой книги». Речь об Эльзе фон Рихтхофен, в замужестве Эльзе Яффе, ученице и любовнице Макса. И даже несмотря на эту подсказку, понимание того, что в центре биографии лежит взятая крупным планом драма любовных отношений Вебера и его психосексуальной конституции — с проблемами поллюций и эрекций, — настигает читателя лишь в третьей главе.
О драме позже, а пока напомню читателю основные моменты официального жития: отпрыск богатой ткацкой семьи Максимилиан Карл Эмиль Вебер родился в 1864 году в Тюрингии. Уже в 30 лет он был вполне состоявшейся личностью — юрист, ординарный профессор в известном университете, блестящий оратор, плодовитый автор, у которого есть ученики. Причины раннего успеха — безумная работоспособность и, добавляет Ионин, высокие покровители. Солидности ученому добавляет женитьба: в 1893 году он сочетался браком с двоюродной племянницей Марианной.
 Марианна Вебер
Марианна Вебер
Через четыре года после свадьбы мерный ход жизни резко ломается: у Вебера возникают первые признаки нервного расстройства, которое полностью лишит его сна, покоя и работоспособности. Он вынужден отказаться от учебных обязательств, проводить месяцы в лечебницах, кажется, от полного распада его спасает лишь неустанная забота Марианны. Наконец в 1902 году недуг начинает отступать, оставив волевого мыслителя «самым нервным человеком на Земле». Вебер восстанавливается, хотя прежняя работоспособность не вернется никогда. Но он и так прекрасно справляется: в 1904—1905 годах выходит «Протестантская этика и дух капитализма», прокладывая ученому дорогу к мировой славе. В 1909-м Вебер вместе с Георгом Зиммелем, Фердинандом Тённисом и другими коллегами основывает Немецкое социологическое общество — и становится одним из его руководителей. Тогда же он берет на себя обязанности редактора многотомных «Основ социальной экономики»; этот проект выльется в его собственную работу «Хозяйство и общество», опубликованную уже после смерти автора. Кстати говоря, именно Ионин в начале 2000-х приступил к подготовке полной русскоязычной версии центрального веберовского труда, который наконец вышел в 2019 году в четырех томах.
В 1910-х социолог продолжает научную работу, он активный публицист и участник общественно-политической жизни — например, Вебер трудится на общественных началах в комиссии по выработке основ Веймарской конституции и едет с немецкой делегацией на мирные переговоры в Версаль. Но в возрасте 56 лет деятельного профессора Мюнхенского университета настигает пневмония — Макс Вебер умирает. Через шесть лет, в 1926-м, его открывает Толкотт Парсонс, запустив миф о Вебере как о единственном классике немецкой социологии. Чтобы коротко охарактеризовать, как Вебер воспринимается изнутри этой самой немецкой социологии, упомяну вслед за Иониным, что философ Эрик Фёгелин (он, кстати, занял в 1958 году кафедру Вебера в Мюнхене, пустовавшую со дня его смерти в 1920-м) причислял Вебера к «четырем великим», определившим суть модерна, — вместе с Карлом Марксом, Фридрихом Ницше и Зигмундом Фрейдом. Так, напомню, выглядит парадное жизнеописание аскетичного рационалиста, запущенное в оборот его женой.
За героическим фасадом, однако, все не так однозначно, причем настолько, что 80-летний Ясперс, узнав, что кумир не идеален, написал: «Предательство!» Но до обстоятельств предательства надо добраться. Ионин начинает книгу, приводя целиком письмо Вебера к будущей супруге. Это в высшем роде показательный документ: молодой ученый предлагает возлюбленной («великодушному товарищу») выйти «из тихой гавани резиньяции в открытое море, где в борьбе душ вырастают люди и преходящее спадает с них». Если отбросить до комизма высокопарную стилистику, говорит биограф, содержание послания можно резюмировать так: «молодой человек предлагает девушке выйти за него замуж при условии, что их брак будет если не радостно, то, во всяком случае, одобрительно воспринят другими потенциальными партнерами каждого из них — девушкой, на любовь которой не сумел ответить он, мужчиной, которому отказала она». Иными словами, перед нами не любовное письмо к одной-единственной с обещанием счастливой жизни, а сугубо этический документ, где в судьи над новыми отношениями призваны третьи лица. Марианна, надо сказать, как будто восприняла происходящее как должное. Вот как она описывает саму себя в каноническом житии: «Когда девушка прочла это письмо, ее потрясло невыразимое, вечное. Она больше ничего не желала. Все ее существование будет впредь благодарственной жертвой за дар этого часа».
Через четыре года после женитьбы происходит то, что Ионин называет «отцеубийством». А именно: после переезда семьи Вебер в Гейдельберг к ним приезжают погостить родители Макса. Сын жестоко ссорится с отцом из-за его неуважительного отношения к матери и выставляет его ночью за дверь. Через два месяца Вебер-старший умирает от сердечного приступа, но Макс, одаренный «исключительным чувством своей правоты», видимо, не страдает от чувства вины и практически сразу уезжает с женой отдыхать в Испанию. Тем не менее в конце года появляются первые признаки «страшной болезни».
Преуспевающий ученый внезапно теряет сон, а вместе с ним возможность концентрироваться, работать, выступать и вообще нормально жить. В личных документах той поры Вебер жалуется на невыносимые страдания, на ночные явления «демонов» и «мучителей», на «катастрофы». Их сопровождают чудовищные и непристойнейшие видения, которые изгоняют сон. Возможный диагноз и содержание видений нам уже не узнать, однако врачи, смотревшие Вебера, сходились в том, что недуг связан с расстройством половой функции. Один доктор даже предлагал ученого кастрировать, что Марианна подробно обсуждала в переписке со свекровью (как и многие прочие вещи). Если опустить подробности, то «синдром Вебера» можно описать как сочетание следующих симптомов: «импотенция, потеря работоспособности и интереса к жизни, а также патологическое отсутствие сна, сопровождаемое сексуальными фантазиями, сочетающееся с поллюциями и нежелательными эрекциями». Вопрос, зачем нам это надо знать, возникает, быть может, не у каждого читателя, но у многих — и во избежание недомолвок Ионин ставит его сам. К ответу на него вернемся позже, а пока досмотрим «драму жизни» до конца.
 Эльза Яффе
Эльза Яффе
Каким-то чудом — чудом любви Марианны — Вебер возвращается к жизни, чтобы пережить духовный подъем, написать великие тексты и испытать земную страсть. В его жизни возникают еще две женщины, помимо матери и жены. Первая — бывшая студентка Эльза Яффе, близкая подруга Марианны, жена издателя журнала «Архив социальной науки и социальной политики», где Вебер публиковал свои работы, любовница скандального психоаналитика Отто Гросса. Именно с ней социолог, по всей видимости, впервые познал физическую близость. В 1910-м их недолгий роман надломился: Эльза ушла к Альфреду Веберу, младшему брату Макса, и состояла с ним в отношениях до конца его жизни. Вторая женщина — пианистка Мина Тоблер, с которой Марианна также дружила: именно в отношениях с Миной, по данным биографов, Вебер обрел телесную уверенность в себе. В 1918 году роман с Эльзой вспыхивает с новой неописуемой силой; судя по страстной переписке, из которой до нас дошли только послания Вебера, биографы склонны считать его садомазохистским (с чем Ионин, впрочем, не согласен). Выбирая в 1918-м Эльзу, говорит автор биографии, ученый выбирал из двух сценариев будущего, где со стороны разума и расчета были уверенные перспективы «исследовательской профессуры» в Бонне, а со стороны чувств и риска — нестабильное будущее рядом с любовницей в Мюнхене (жена в любом случае оставалась рядом). «Можно сказать, что, делая выбор между поздней юностью и ранней старостью, — пишет Ионин, — он выбирал в конечном счете свою смерть».
В последние месяцы жизни, узнаем мы из книги, Вебер нередко писал в один день письма всем трем женщинам, используя при этом одни и те же ласковые обороты. Первый том «Хозяйства и общества» ученый посвятил матери, второй — жене, а третий и четвертый тома сама Марианна как душеприказчица и издательница посвятила Мине Тоблер и Эльзе Яффе.
Сделаем шаг назад — к «страшной болезни», а затем — к вопросу о том, можно и нужно ли рассуждать о веберовских эрекциях. Ионин трактует недуг, уничтоживший налаженную карьеру ученого, в рамке, которая кажется самоочевидной. Обстоятельства пригнаны очень плотно, судите сами. Асексуальный товарищеский брак, в котором, вероятно, не было даже консумации. Благоговейная любовь к набожной матери, которая воспринимала любую «чувственную страсть» как «обремененную виной и недостойную человека». После «убийства» плохого отца сын остается наедине с обожаемой, чистой, несправедливо обиженной матерью и... еще одной незапятнанной низкой страстью «матерью». Наконец, кара приходит изнутри — из бессознательного: чудовищные видения подрывают не только нравственные представления больного о самом себе, но и ставят под угрозу его физическое существование.
Ионин приводит цитату из очерка «Достоевский и отцеубийство» Фрейда, написанного через восемь лет после смерти Вебера: «отношение между личностью и отцом как объектом превратилось, сохранив содержание, в отношение между Я и Сверх-Я. Новая постановка на второй сцене». Биограф тут же продолжает: «Практически вся дальнейшая жизнь Макса Вебера получает свое — психоаналитическое— объяснение, если принять во внимание эту постановку „на второй сцене“».
Это очень хорошо — хотя для адекватной психоаналитической трактовки нам тут не хватает субъективного опыта самого Вебера, но неужели биограф находит в жизни своего героя лишь пугающе буквальную иллюстрацию логики Фрейда? Этот вопрос связан с иным вопросом, который мы задали выше: насколько правомерно ставить в центр повествования о жизни великого ученого его сексуальность и любовную жизнь?
 Элена Вебер, мать Макса Вебера
Элена Вебер, мать Макса Вебера
Ионин разделяет этот вопрос на два — об этичности подобного исследования и «о границах языка, допустимого в исследовании, претендующем на научность» — и отвечает на них расплывчато, демонстрируя своеобразное чувство юмора. В сухом остатке следуют две вещи. Во-первых, научный язык следует расширять, дабы иметь доступ к разные области опыта. Во-вторых, допустимость обсуждения интимной жизни исторических персон исторически обусловлена, а в данном конкретном случае опирается на респектабельную биографическую традицию — все технически доступные документы опубликованы еще Раткау, которому Ионин наследует. Однако важнее всего то, что, по словам Ионина, обращение к скандальным, казалось бы, деталям «должно помочь <...> уловить некоторые аспекты идей Вебера, традиционно ускользавшие от внимания исследователей. Ведь очевидно, что мышление происходит не в безвоздушном пространстве чистой логики, которая сама по себе есть продукт мыслительного процесса в живых организмах. <...> Достаточно констатировать самоочевидный факт зависимости идейных построений от того, в каких социальных и природных условиях, включая обстоятельства тела и здоровья, они совершаются».
Обратим внимание, что задача поставлена очень аккуратно: не найти в телесных обстоятельствах причинную основу содержания научных теорий, а посмотреть на научные теории как на возможный «продукт осмысления тяжелых страданий болезни и любовных переживаний», огрубляя — как на «результат близкого знакомства с демонами». В некотором смысле интенция Ионина похожа на то, что он сам называет «действительным тезисом Вебера» — по контрасту с «общеизвестным» тезисом Вебера, согласно которому в своей самой популярной книге социолог якобы утверждал, что протестантизм произвел на свет капитализм. «Действительный» же тезис биограф формулирует так: «Реформация породила религиозно обусловленный, методически рациональный образ жизни и профессиональную этику, которые лучше всего „подошли“ капиталистической организации хозяйства». Иначе говоря, между протестантской этикой и духом капитализма есть «избирательное сродство» — принимая в расчет первую, можно лучше понять устройство второго. Схожим образом, лишь не закрывая глаза на психосексуальные терзания и любовный опыт, можно занять «точку зрения, которая больше объясняет и позволяет увидеть композицию целого, то есть драмы жизни Макса Вебера».
Остается прояснить, достигается ли поставленная задача автором этой разносторонней и яркой работы, которая заслуживает быть прочитанной людьми с широкими гуманитарными интересами.
Что очевидно удается, так это повысить читательскую чувствительность к тому, насколько сквозной темой для Вебера являются нравственные ограничения (мучительная аскеза, отказ от наслаждений) в их связи с методически рациональной организацией жизни. Она также принимает форму знаменитого «расколдовывания мира», устранения из мира непознаваемого — т. е. процессов, в которых, по Веберу, заключается суть буржуазного модерна. От знания, что автору этих абстрактных идей сопутствует опыт изматывающей гиперномии и пребывания в «стальном панцире», эти идеи не становятся истиннее. Однако они как бы уплотняются и насыщаются, становятся социологически понятнее.
Особую силу избирательное родство опыта и мысли обретает в толковании Иониным не самого известного, но важного текста из «Хозяйственной этики мировых религий». Полное название статьи, о которой идет речь, — «Промежуточное рассмотрение. Теория уровней и направлений религиозного неприятия мира» (1913); именно ее предлагал Вебер обсудить Эльзе, когда «глубокоуважаемому учителю будет позволено сидеть (или лежать) у ног своей ученицы». В этом тексте ученый указывает, что религиозная этика братской любви и логика религий спасений в целом находится в глубоком противоречии с искусством и сексуальностью. Проводя свою характерную диссекцию-классификацию, Вебер приходит к выводу, что эротику необходимо вынести за пределы этического рассмотрения, поскольку для влюбленных есть знак судьбы, но для ищущих религиозного спасения — демоническая случайность, не укладывающаяся в нравственную оценку.
 Мина Тоблер
Мина Тоблер
Ионин указывает здесь на тонкое сходство между рассуждениями Вебера и наблюдениями его любовницы Мины, и в этом указании нет ни малейшего ощущения вульгарного сближения — но, напротив, логическая рифма. За рациональной классификацией как будто просматривается умственное решение внутренних конфликтов, как если бы ученый в начале 1910-х наконец-то нашел способ обращения с демонами. Уместно вслед за биографом прочитать его поздние письма к Эльзе, в которых ученый ругает свой «чуждый любви холодный мозг», который, однако, «был последним спасением, тем, что оставалось „чистым“ против бесов, которые играли со мной в свои игры, когда я болел (да часто и раньше)». Хитрый баланс между этикой, разумом и страстями, найденный Вебером ближе к пятому десятку, впечатляет не меньше, чем пирамида человеческих отношений (Макс — его мать — Марианна — Эльза — Альфред — муж Эльзы — любовник Эльзы — Мина и др.), в котором этот баланс воплощался. Оба построения выглядят изящно, хотя высчитать меру страданий, скрытых за ними, вряд ли возможно.
Наконец, Ионин произносит свое слово в дискуссии биографов о веберовском мазохизме, утверждая, что «роковая страсть Макса Вебера — это по разряду не сексопатологии, а социологии господства». Леонид Григорьевич напоминает, что господство по Веберу (не путать с властью) — это вероятность того, что человек или люди будут повиноваться некоему приказу или приказам; иными словами, отношения господства подразумевают некий минимум желания подчиняться в ответ на желание господствовать. В дело идет тревожный пассаж из «Промежуточного рассмотрения», где Вебер говорит следующее: чем более сублимированы (не в смысле Фрейда, а в смысле удаленности от природного состояния) сексуальные отношения, тем больше в них элемента брутальности. И чем тоньше эротическое господство, тем более интенсивный характер внутри этих отношений носит тайное «изнасилование» «более брутальным партнером» души партнера менее брутального за счет «симуляции человечнейшей самоотдачи и наслаждения самим собой в другом». Под «более брутальным» в этом тезисе Ионин предлагает понимать Вебера, а под жертвой его тайного, но желанного насилия — Эльзу. Произведя перестановку ролей внутри того, что кажется рабским возлежанием учителя у ног ученицы с плеткой, Ионин делает вывод, что профессор был вовсе не мазохистом, а садистом и слово «брутальный» в его «Рассмотрении» следует трактовать как «садистический».
Этот тройной переворот — не жертва «сексопатологии», а реализатор концепта господства, и не слуга, а на самом деле хозяин — выглядит эффектно. Однако утверждая, что то, что мы принимаем за мазохизм, есть отношение добровольного подчинения (т. е. господства), Ионин ровным счетом ничего не опровергает. С психоаналитической точки зрения, предложенной самим биографом в качестве базовой рамки для анализа, здесь нет никакого переворота. Тот же Лакан характеризовал мазохиста как «иронического господина». Этот «господин» жаждет контрактным (легальным!) образом оформить отношения со своим владельцем, который вознесен «симуляцией человечнейшей самоотдачи» — и потому отчасти одурачен. Оттого финальный твист биографа, предлагающий увидеть в рыцаре рациональности изощренного садиста, предстает вишенкой на вишенке на торте — чем-то явно лишним.

Как рынки развивающихся стран боролись с приходом коронавируса
Волнение, охватившее рынки развивающихся и бедных стран в начале 2020 г., все больше усиливалось. Согласно данным экономистов из Института международных финансов, организации, представляющей крупнейшие мировые банки, в период с середины января по середину мая 2020 г. в 21 крупной развивающейся стране с рынков акций и облигаций за границу было выведено 301 млрд долларов. Это более чем в 4 раза превышало размер оттока, который произошел в этих странах в связи с начавшимся глобальным финансовым кризисом в сентябре 2008 г. Заемщики в странах Африки южнее Сахары пребывали в отчаянии, поскольку начиная с февраля практически все финансовые рынки для них были закрыты. Однако ущерб был нанесен не только им. Под удар попали и гораздо более сильные экономики.
Имея годовой объем производства более 3 трлн долларов по паритету покупательной способности, Бразилия является гигантом среди развивающихся стран. По сравнению с ней остальные страны Латинской Америки выглядят карликами. Бразилия стоит в ряду таких стран, как Индонезия и Россия. Ее обгоняют только Китай и Индия. Весной 2020 г. финансовую сферу Бразилии начало сильно штормить. Буквально за несколько месяцев курс бразильской валюты упал на 25%. Это тяжело ударило по тем, кто закупал импортные товары или погашал задолженности, деноминированные в долларах. К концу марта стоимость акций на рынке ценных бумаг в Сан-Паулу упала почти вполовину. Стоимость страхования от дефолта по пятилетним государственным облигациям взлетела с низкого уровня в 100 базовых пунктов в середине февраля до 374 базовых пунктов через месяц. Это вызвало повышение стоимости кредитования. Очень сильное давление оказывало и стремительное падение цен на сырье. Произошло обесценение облигаций гигантских бразильских компаний, обладающих огромными финансовыми ресурсами, таких как нефтяная компания Petrobras и горнодобывающая компания Vale: их долгосрочные облигации, деноминированные в иностранной валюте, потеряли от 30 до 40 центов на доллар. В обычной ситуации этого было бы уже достаточно, чтобы они оказались в категории проблемных компаний с плохими долгами. «Все произошло слишком быстро, — сказал один из экспертов по рынкам облигаций. — Люди не думали о восстановительной стоимости; падение цен было связано только с паническими настроениями».
Как выдержат этот шторм рынки развивающихся стран? Не случится ли так, что финансовый кризис лишит их возможности дать достойный ответ пандемии? Окажут ли им поддержку развитые страны и международные финансовые институты, в которых большинство голосов принадлежит американцам и европейцам, или только усилят давление на них? Коронавирусный кризис стал важной проверкой на прочность экономического режима не только развитых стран, но и всего мира.
Хотя в 2020 г. бегство капитала стало поразительно масштабным, это была далеко не первая финансовая буря, которая нанесла серьезный ущерб развивающимся странам. Начиная с 1990-х гг. экономический рост так называемых развивающихся рынков был историей успеха мировой экономики. В разных странах мира, имевших низкую стартовую базу, был достигнут значительный рост благосостояния, коснувшийся огромного количества людей. Однако этот рост был неравномерным и нестабильным. Он прерывался кризисами: в 1997 г. — в Восточной Азии, в 1998 г. — в России, в 2001 г. — в Аргентине и Турции. Благодаря экономическому росту Китая развивающиеся страны смогли пережить глобальный финансовый кризис 2008 г. относительно спокойно. Однако стоило Федеральной резервной системе в 2013 г. только намекнуть о гипотетической возможности повышения процентной ставки, как на финансовых рынках началась паника, которая привела к оттоку денег из развивающихся стран в США. На следующий год все пошло наперекосяк на товарных рынках. В Нигерии и Анголе, крупнейших экспортерах нефти в Африке южнее Сахары, упал доход на душу населения. Резко ухудшилась экономическая обстановка в Венесуэле. В Бразилии началась сильнейшая рецессия. Дело не обошлось и без политических проблем. В 2014 г. в Таиланде произошел государственный переворот. В период неэффективного руководства страной при президенте Джейкобе Зуме практически прекратился экономический рост ЮАР. Уровень безработицы в небольших городах достиг почти 25%. Оказалось, что от сбоев не защищен даже Китай — движущая сила мирового экономического роста. В 2015 г. рухнул шанхайский фондовый рынок, курс китайского юаня упал, и из Китая были выведены валютные активы на сумму 1 трлн долларов. Пекину удалось предпринять меры противодействия, но замедление темпов роста усилило давление на товарные цены.
Несмотря на эти негативные факторы, в условиях, когда мировые процентные ставки были на крайне низком уровне, заемщики из развивающихся стран продолжали поиски потенциальных кредиторов. Развивающиеся страны находились на наиболее перспективном фланге финансового развития. К 2019 г. внешние долги стран со средним доходом на душу населения — развивающихся стран в прямом смысле этого слова — составили 7,69 трлн долларов. Из этой суммы 484 млрд долларов составляли долгосрочные облигации, которыми владели частные инвесторы, 2 млрд долларов приходилось на долю долгосрочных банковских кредитов, а 2,1 млрд доллара — на краткосрочные кредиты. За 5 лет, с 2014 по 2019 г., увеличились долги даже бедных стран, которые относятся к наиболее рискованной категории заемщиков: их долги в твердой валюте выросли втрое — до суммы более чем 200 млрд долларов. Все больше стран с низким и средним уровнями доходов присоединялись к системе рыночного финансирования на условиях, которые Даниэла Габор называет «консенсусом Уолл-стрит», чтобы не путать их с «вашингтонским консенсусом» 1990-х гг. В этом новом мире глобального финансирования такие институты, как МВФ или Всемирный банк, выступали в качестве дополнительных инструментов, которые использовали не только большие банки, но и менеджеры по управлению активами, а также трейдеры на рынках облигаций и деривативов. Возникал большой соблазн стать членом этой системы. Это открывало широкие возможности для кредитования на условиях, которые казались весьма привлекательными. Главный вопрос состоял в том, насколько стабильной была эта система и кто возьмет на себя риски в случае, если наступят тяжелые времена.
Противники глобализации предостерегали, что эти долги повиснут над развивающимися странами как дамоклов меч. Открывая двери международному финансированию, они отдавали себя на милость глобального кредитного цикла. Если бы условия кредитования ужесточились, а доллар укрепился, они могли бы столкнуться с внезапным прекращением внешнего финансирования. Тогда они были бы вынуждены пойти на такую мучительную процедуру, как сокращение расходов, что причинило бы огромные страдания сотням миллионов людей, находящихся в уязвимом положении, и поставило бы под угрозу как будущий экономический рост этих развивающихся стран, так и их политическую стабильность. В конце 2019 г. почти половина стран, имеющих минимальные доходы, уже переживали долговой кризис.
Имея многолетний опыт, развивающиеся страны осознавали опасность, но, вместо того чтобы просто принять свою судьбу, они предпочли учиться. Начиная с 1990-х гг. они разработали целый репертуар экономических мероприятий, с помощью которых можно было управлять рисками, возникающими со стороны глобальной финансовой системы. Создание этого набора инструментов было компромиссом между ключевыми элементами вашингтонского консенсуса свободного рынка и политикой более активного государственного вмешательства. Хеджирование рисков глобальной интеграции тоже не было бесплатным. Кроме того, новый набор инструментов экономической политики не давал гарантий полной автономии. Рынки развивающихся стран еще не освоили магические заклинания, которые помогли бы им «вернуть контроль». Да и дело было совсем не в этом. Развивающиеся страны нашли способ, как сделать риски глобализации более контролируемыми. Откровенно говоря, именно это всех и устраивало. Фонды-стервятники могут жить за счет отчаявшихся должников. Капитализм катастроф становился реальностью. Но это было проблемой самих развивающихся стран. Крупные банки и управляющие фондами больше всего хотели, чтобы центральные банки и казначейства развивающихся стран стали надежной опорой, основанной на долларе системе Уолл-стрит.
В первую очередь нужно было минимизировать размеры суверенных займов в иностранной валюте. Насколько это было возможно, уже с 2000-х гг. правительства развивающихся стран поступали точно так же, как и правительства развитых стран: заимствование финансовых средств как от граждан своей страны, так и от иностранных кредиторов осуществлялось ими в национальной валюте. По сути, это позволяло национальным центральным банкам сохранять полный контроль над погашением кредитов. В качестве крайней меры они могли просто произвести дополнительную эмиссию. Правда, это грозило инфляцией и обрушением курса их валюты, зато полностью снимало с повестки дня вопрос о невозможности немедленно оплатить долги. Аргентина, пережившая дефолт в 2020 г., в эту схему не вписывалась. 80% ее государственного долга было номинировано в зарубежной валюте, что вызывало недоверие как у внутренних, так и у внешних инвесторов. В Индонезии доля заимствований в местной валюте составляла более 70%, а в Таиланде — почти 100%. Можно было бы предположить, что из-за такой структуры займов зарубежные компании не будут заинтересованы в инвестициях в этих странах, однако в мире с очень низкими процентными ставками желающих было немало. При наличии рынка суверенных облигаций, выпущенных в национальной валюте, можно было попытать счастья, организовав систему рыночного финансирования, которая включала бы рынок ценных бумаг, рынок деривативов и рынок репо. В Перу, Южной Африке и Индонезии еще до кризиса 40% государственных облигаций, выпущенных в национальной валюте, находились в руках зарубежных инвесторов. Это, однако, не уменьшало риски финансовой паники. Ведь риск крупномасштабной паники возникает на более крупных и разветвленных рынках облигаций. Как и в экономически развитых странах, в ситуацию мог бы вмешаться центральный банк. С другой стороны, западные кредиторы несли риски, которые возникали из-за флуктуаций цен на облигации и изменений валютных курсов.
Второй важнейшей задачей было не допустить уменьшения валютных рисков для иностранных кредиторов путем установления фиксированного обменного курса. В результате фиксирования курса национальной валюты относительно доллара или евро создавалась бы иллюзия стабильности. В хорошие времена такая ситуация привлекла бы избыточный приток зарубежного капитала. В плохое время деньги утекали бы из страны, и в этом случае поддержание фиксированного курса оказалось бы бесполезной и дорогостоящей процедурой. В такой ситуации в наличии было бы слишком много горячих денег, которыми могли бы распоряжаться как иностранные, так и местные инвесторы. Было бы лучше позволить всей этой денежной массе покинуть страну, однако при этом инвесторы понесли бы большие потери, связанные с девальвацией местной валюты. Если же инвесторы захотели бы хеджировать свои риски, то им не стоило забывать о существовании рынков деривативов.
Очень болезненной оказалась сильная девальвация национальных валют. В связи с этим самые большие потери понесли импортеры, которым приходилось покупать товары по более дорогой цене, а также те неудачники, которые неосмотрительно кредитовались в долларах. Если такую внезапную девальвацию вовремя не остановить, она может выйти из-под контроля. Тогда у национальных правительств не будет иной альтернативы, кроме как резко поднять процентные ставки. Но это только усугубило бы и без того тяжелую ситуацию. Чтобы уменьшить эти риски, было решено не стремиться удерживать обменный курс на каком-то определенном фиксированном уровне, а прибегнуть к интервенциям, что могло бы замедлить темпы падения обменного курса. Для этого правительствам были необходимы значительные резервы иностранной валюты. С начала нового тысячелетия Китай нарастил свои резервы до рекордного уровня в 4 трлн долларов в 2014 г. По этому показателю с Китаем никто не мог сравниться. Однако Таиланд, Индонезия, Россия и Бразилия тоже накопили достаточно большие резервы иностранной валюты. В общей сложности к началу 2020 г. резервы иностранной валюты стран с развивающимися рынками, помимо Китая, составляли 2,6 трлн доллара.
Там, где национальных резервов было недостаточно, можно было создать региональные сети, которые позволяли разным странам объединять ресурсы и оказывать друг другу поддержку при управлении потоками капитала. В этом отношении впереди всех была Азия, в которой имелась сеть Чиангмай. В Латинской Америке и в Африке южнее Сахары такой прочной региональной финансовой сети не было. В случае экстраординарной ситуации этим странам пришлось бы рассчитывать только на МВФ или на помощь дружеских центральных банков в форме установления своп-линий ликвидности. Ядро таких своп-линий составляли долларовые линии, впервые введенные ФРС и используемые с 2007 г. Эти линии были зарезервированы только для наиболее привилегированных стран с развивающимися рынками, причем двумя кандидатами, выбранными в 2008 и 2020 гг., являлись Мексика и Бразилия соответственно. Начиная с 2008 г., кроме финансовой сети ФРС, свои линии ликвидности стали создавать некоторые другие центральные банки, в частности Банк Японии и Народный банк Китая.
Если абстрактно рассуждать о финансовых потоках, то можно упустить из виду тот факт, что их движение во многом определяли крупные предприятия и финансовые компании, а также небольшое количество сверхбогатых людей. Банкротство банка Lehman Brothers в 2008 г. наглядно продемонстрировало, какой урон всей системе может нанести крах одного банка. После этого широкое распространение получило так называемое макропруденциальное регулирование — поэтапное системное регулирование важных финансовых институтов. Для развивающихся стран это означало проверку того, в какой степени подвержены валютному риску крупные банки и иные корпорации, банкротство которых может нанести ощутимый ущерб национальной экономике. Такое регулирование было слишком явным вмешательством в дела финансовых и промышленных институтов и в любой момент могло спровоцировать появление оппозиции в деловых кругах. Однако это было исключительно важное мероприятие по поддержанию финансовой стабильности.
И наконец, если все другие меры не дадут желаемого результата, то контроль над капиталом перестанет быть табу. В период между 1970-ми и 1990-ми гг. представители неолиберализма неоднократно организовывали большие крестовые походы в поддержку либерализации движения капитала через границы. Однако ФРС, Европейский центральный банк и Банк Японии занимались масштабным манипулированием своих рынков облигаций, перемещая триллионы долларов по всему миру в поисках выгодных сделок. В такой ситуации даже МВФ и Банк международных расчетов были вынуждены признать, что развивающиеся страны имеют полное право использовать любые меры по предотвращению притока капитала, а если возникнет такая необходимость, то и замедлять его отток. Ведь в конечном счете невозможно было делать вид, что движение капитала в 2010 г., вызванное политикой центрального банка на Западе и поддержанное стремительным развитием государственного капитализма в Китае, соответствовало понятию, которое обычно называется рыночными силами. Такие процессы, как «тихая революция» в области фискальной и монетарной политики, происходившая в развитых странах, а также все большее вмешательство Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка и Банка Японии в деятельность рынков облигаций, не могли не оказать влияния на развивающиеся страны.
В отчете Банка международных расчетов за 2019 г. отмечалось, что в вопросах управления рисками финансовой глобализации практика намного обогнала теорию. За более чем 25 лет те развивающиеся страны, у которых имелся опыт в финансовых вопросах, научились справляться с волатильностью глобальных потоков капитала. Для этого появился новый набор инструментов, которому, правда, не хватало громкого названия типа «вашингтонский консенсус». Опыт приобретали и международные финансовые институты, такие как Международный валютный фонд. Хотя при реализации национальных программ МВФ по-прежнему выдвигал весьма жесткие условия, он хотел бы видеть себя в роли готового к сотрудничеству и способного к самооценке партнера по так называемой Глобальной сети финансовой безопасности. Его главная функция, по крайней мере так он теперь ее понимал, состояла не в том, чтобы навести дисциплину и порядок в вышедших из-под контроля суверенных странах. Его миссия заключалась в том, чтобы помочь развивающимся странам приобрести навыки, необходимые для успешного маневрирования в мире рыночных финансов. Вряд ли стоит лишний раз повторять, что все это расширяло поле деятельности торговцев облигациями, финансовых консультантов и менеджеров по управлению активами. Финансовая глобализация была уже свершившимся фактом.
В 2020 г. встал вопрос о том, удастся ли консенсусу Уолл-стрит и новому набору финансовых инструментов развивающихся стран выстоять под ударом тяжелейшего стресса. Смогут ли заемщики развивающихся стран сохранить доступ к финансовой системе, основанной на долларе? Поставят ли они во главу угла интересы их национальных экономик, или, как это часто случалось, будут вынуждены поднять процентные ставки и снизить расходы для того, чтобы замедлить отток капитала?
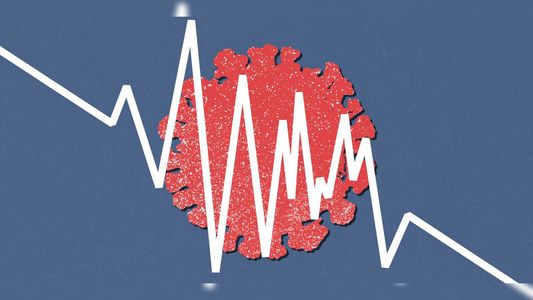
top news

В Японии из-за прибл...

Александр Васькин. П...

Счастье через горе о...
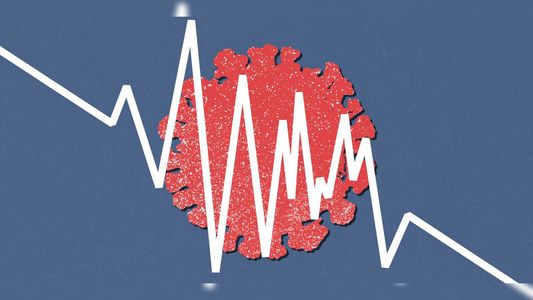
Как рынки развивающи...
Июнь 2, 2023
В Японии из-за приближения тайфуна объявили эвакуацию
С начала дня из-за приближения тайфуна «Мавар» в Японии объявлена эвакуация для 138,7 тысяч человек, из них для 13 тысяч в префектуре Вакаяма введен пятый, самый высокий уровень угрозы и рекомендации эвакуироваться носят экстренный характер, сообщил телеканал NHK.
Наивысший уровень опасности объявлен в префектуре Вакаяма. Он означает необходимость экстренных и неотложных мер для спасения собственной жизни, в том числе и в случаях, когда переместиться в эвакуационный пункт уже невозможно из соображений безопасности. Дословно пятый уровень эвакуации можно перевести как «экстренное обеспечение (собственной) безопасности». В частности, население призывают укрыться выше второго этажа, по возможности выбрать наиболее безопасное место, не выходя на улицу. Такие рекомендации здесь получили более 12 тысяч человек.
Четвертый из пяти возможных уровень угрозы объявлен еще в 13 префектурах. Он означает рекомендацию эвакуироваться в убежище, пока эвакуация еще возможна. В Сидзуоке эвакуация рекомендована 39 тысячам человек.
В настоящее время тайфун находится к юго-востоку от Японского архипелага, но его влияние ощущается на обширной территории по всему восточному побережью страны. За счет медленного продвижения на север ливневые дожди принимают затяжной характер, «зависая» над одним и тем же местом. До завтрашнего утра на Сикоку ожидается выпадение 350 миллиметров осадков, в районе Кинки – 300, в Канто, к которому относится и Токио, 250 миллиметров осадков.

Декабрь 6, 2022
Александр Васькин. Повседневная жизнь советских писателей от оттепели до перестройки.
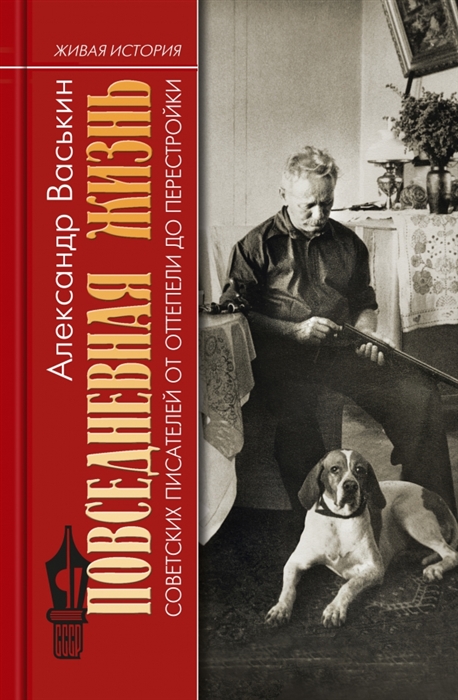
Самые опасные для власти похороны прошли в декабре 1971 года. Сначала в 1970-м извели свободолюбивый журнал «Новый мир», а затем его главного редактора (с 1958 года) Александра Трифоновича Твардовского. Эта смерть жутко напугала его недавних гонителей, среди которых было немало писателей консервативно-сталинистского толка. Некоторые из них (Анатолий Софронов, например) не постеснялись прийти на прощание с поэтом, чтобы постоять в почетном карауле. А ведь именно в софроновском журнале «Огонек» 26 июля 1969 года была опубликована пресловутая статья «Против чего выступает „Новый мир?“», в которой говорилось, что «наше время — время острейшей идеологической борьбы» и что «проникновение к нам буржуазной идеологии было и остается серьезнейшей опасностью. Если против нее не бороться, это может привести к постепенной подмене пролетарского интернационализма столь милыми сердцу некоторых критиков и литераторов, группирующихся вокруг „Нового мира“, космополитическими идеями». Откликов было немало: тираж «Огонька» в 1969 году превысил два миллиона экземпляров, «Нового мира» — 130 тысяч.
Статью подписали Михаил Алексеев, Сергей Викулов, Анатолий Иванов, Петр Проскурин, правда, сочиняли ее совсем другие люди. Она фигурирует в истории советской литературы как «письмо одиннадцати». Уместной была бы и подпись Всеволода Кочетова, ибо между «Новым миром» и «Октябрем» еще в первой половине 1960-х годов развернулась ожесточенная идейная борьба. «Прежде чем вводить танки в Чехословакию, надо было ввести их в „Новый мир“» — слова эти приписывают Аркадию Первенцеву, члену редколлегии «Октября». «Октябристы» и «новомирцы» схватились не на жизнь, а на смерть. И вражда эта была отнюдь не литературного плана, а мировоззренческого. Не случайно Виктор Астафьев 8 февраля 1973 года сообщает одному из своих адресатов: «„Новый мир“ после ухода из него А. Т. Твардовского принципиально не выписываю».
Хотя отказаться от подписки было для некоторых авторов «журнала Твардовского» слишком легкой жертвой, куда как серьезнее выглядел бы бойкот. То есть отказ от публикаций в «Новом мире» при новом главном редакторе. Но где же тогда печататься? Например, Евгений Евтушенко решил отправиться на БАМ, в поездку, организованную новой редколлегией (старую разогнали). Наталья Бианки упрекнула его: «Ты с этими басурманами едешь в командировку. Хоть подождал бы для приличия какое-то время!» На что Евгений Александрович ответил: «Неужели ты не понимаешь, что каждый день я должен где-то мелькнуть? А иначе я выпаду из седла».
Так совпало, что в декабре 1971 года в Москве проходил и пленум Союза писателей СССР, на который приехала группа литераторов из Белоруссии, среди них оказался и Василь Быков:
«Гроб с телом [Твардовского] стоял в ЦДЛ, на Воровского. Чуть ли не до самой церемонии похорон была какая-то тревога, происходила непонятная суета — что- то не могли согласовать с руководством Москвы или даже страны. Говорили, что все еще неясно, где будут хоронить, место на Новодевичьем начальство не хотело давать. Публику в траурный зал впускали по пропускам, людей было очень много. Стоя у гроба в почетном карауле, я не узнавал в покойном Твардовского. Болезнь изглодала некогда могучего человека, и передо мной лежал худенький, с редким пушком на голове некто. Во время панихиды произносились проникновенные речи о заслугах Твардовского перед литературой и русской культурой в целом, — речи, которые непоправимо опоздали. Запомнилось выступление Константина Симонова: он, выступая, плакал и не стыдился своих слез, в зале тоже многие плакали. Там же многие впервые увидели Александра Солженицына, который сидел рядом с вдовой Марией Илларионовной. Слово для прощания ему не дали, и он только перекрестил покойника. Позже стало известно, что Солженицына едва пропустили в зал, к тому времени он уже был исключен из Союза писателей.
По окончании панихиды многие поехали на кладбище. Был хмурый, пасмурный день предзимья, падал редкий снежок. Когда похоронный кортеж подъехал к кладбищу, его встретила цепь войск МВД, которая протянулась вдоль железной дороги до кладбищенских ворот. На кладбище было то же самое. Все должны были идти к месту захоронения в плотном окружении войск. Нас с Валей Щедриной, когда мы оказались вне процессии, злобно обругал офицер, даже крикнул: „Стрелять буду!“ На что эта бесстрашная белоруска тихо, но решительно сказала: „Давай, стреляй, ну!“ И офицер, показалось, был ошарашен ее решимостью. Гроб стали опускать в землю, и Солженицын его перекрестил. Это было непривычно в атеистической писательской среде, об этом долго потом рассказывали и писали очевидцы... После похорон все — и друзья, и враги недавнего редактора одиозного журнала — разошлись по кабакам, обмывать косточки покойного... Я почувствовал себя сиротой...»
Это свидетельство Василя Быкова (как и сами мемуары) сегодня полезно почитать тем, кто скучает и тоскует по тем временам: большого русского поэта хоронят словно под прицелом. Он-то достоин воинского салюта, а его, уже мертвого, везут под конвоем на место последнего упокоения. И в этом суровая повседневность советской эпохи. Чем-то это напоминает прощание с Пушкиным в Петербурге в феврале 1837 года. В Святогорский монастырь гроб с его телом везли словно преступника, под большим секретом.
Анатолий Жигулин 21 декабря 1971 года отметил в дневнике: «Еще не было десяти утра, когда я поехал в ПДЛ. По дороге купил свежие и вчерашние вечерние газеты. Все не верилось, что так и не будет объявлено о времени и месте прощания, похорон. Увы! Нигде ни единой строчки! Какая жестокость! Какой позор! Намеренно лишили народ возможности проститься со своим великим поэтом». Не обошлось и без инцидентов: «Вдруг в тишине раздался женский голос из задних рядов, что ближе к ложам. Взволнованно кричала молодая женщина. Ей мешали. Голос ее был слаб. Долетали до сцены отдельные слова, отдельные фразы: „Почему никто не сказал, что Твардовского затравили, лишили его любимого детища? Почему не сказали, что последняя поэма Твардовского не напечатана, запрещена?“ Женщину утихомирили. Возникло несколько странное ощущение... Потом — вынос тела. <...> Грузовики с венками. Холод. Перекрикивания милицейских офицеров: „Сниматься будем ровно в четыре!“».
Много свидетельств осталось о том печальном дне, не всегда они, быть может, точны на все 100 процентов, что отчасти вызвано эмоциональным потрясением от произошедшего. Но есть одно, объединяющее всех участников этого прощания впечатление, не подлежащее сомнению, — Александра Трифоновича Твардовского советская власть боялась даже неживого. Недаром Владимир Лакшин напишет в тот же день, 21 декабря 1971 года: «Настоящая стратегическая операция готовится, как перед сражением». Действительно сражение, причем с тяжелой артиллерией, с танками, которые ввели в бывшую редакцию Твардовского. В своем дневнике Владимир Яковлевич наиболее подробно и точно воспроизводит хронологию того дня.
Боялись, прежде всего, писательские шишки, что слетят. Андрей Турков вспоминает звучавшую словно предостережением в предшествующий похоронам день фразу: «Если завтра будет какая накладка — головы полетят». А в некрологе Твардовского лицемерно назвали «выдающимся», при этом поэма «Тёркин на том свете» упомянута не была. За нее автора гнобили и при жизни. Например, в дневнике от 1 марта 1964 года Александр Трифонович осуждает главного редактора «Литературной газеты» Чаковского, приводя его следующие слова: «Необходимо помнить, при каких обстоятельствах появилась поэма. Я там был в Пицунде при чтении. Говорят, что Хрущев сказал „хорошо“, но я, правда, не слышал этого. Он только предложил выпить за автора. (Никто из участников встречи не поправил этого хитреца и мерзавца — ни Федин, ни Марков, ни Воронков.)». А ведь Хрущев так и сказал после чтения поэмы: «Поздравляю. Спасибо», что и отметил Твардовский в дневнике 18 августа 1963 года.
Уход Твардовского из жизни стал невосполнимой потерей не только для литературы. Его авторитет как главного редактора «Нового мира» среди писателей был огромен. «Дома ждал меня „Новый мир“ с рассказом моим. То-то радость мне! Рассказ при редактуре обхерили здорово, и без меня... И все равно радуюсь... В журнале уверяли, будто публикация в „Новом мире“ — это своего рода пропуск в цензуре. Мечты сбываются! <...> Среди моих писателей-однокашников вроде бы в неполноценных ходишь, если не публиковался в „Новом мире“, — и это осуществилось», — признавался Виктор Петрович Астафьев 28 августа 1967 года.
По словам философа и историка Михаила Гефтера, Твардовский стал «центральной фигурой духовного обновления». Личность Александра Трифоновича была настолько значима, что его место в общественной жизни так никто и не занял (рядом с ним можно поставить Михаила Ильича Ромма). Никто не подхватил, не поднял упавшего знамени. Подобных ему людей просто не нашлось, хотя «выдающихся общественных деятелей» было как грибов после дождя. В советское время понятие «общественный деятель» было опошлено конформизмом и повсеместным приспособленчеством. Александр Трифонович же как-то записал: «Я — не Симонов, которому все равно, где печататься: у Кож[евнико]ва ли, у Коч[ето]ва ли. Я не могу думать, что мне наплевать на все, а я вот, мол, буду писать и все». Ему было даже не все равно, с кем получать Госпремии.
Под общественной деятельностью в СССР нередко понималось сидение в президиумах и на сессиях, участие в каких-то многочисленных обществах дружбы (или «Фонде мира»), а еще подписание коллективных писем с осуждением очередной вылазки международной реакции. Общественный деятель — будь он писатель или артист — постоянно за что-то боролся: за разрядку мировой напряженности, за освобождение от колониализма стран третьего мира и т. д. Короче говоря, боролся с чем угодно, только не с недостатками собственной государственной системы. Твардовский и был истинным общественным деятелем, выдающимся, в отличие от многих. А «Новый мир» благодаря Александру Трифоновичу превратился в центр притяжения всех прогрессивных сил советского общества (хотя, казалось бы, это был всего лишь один из многих литературных журналов). Уже за одно это Твардовскому следовало поставить памятник, даже если бы он не писал стихов. И такой памятник появился — в 2013 году в Москве, на Страстном бульваре, но дожидались его так долго, будто требовалось очередное решение ЦК КПСС, которого уже в помине не было.
На похоронах обычно дают слово всем желающим — но это же не обычные похороны, а союзописательские. И потому перечень всех, кто должен выступить на панихиде и на кладбище, строго просеивался и согласовывался с вышестоящими инстанциями, дабы чего не вышло. Родные покойного поколебать это сложившееся правило были не в силах. «Как клеймятся порядки старой России. Какие слова выискиваются, когда обличаются произвол и безобразия царского самодержавия. Но можно ли себе представить, чтобы в самые мрачные годы досоветской России ближайшие друзья умершего писателя были бы лишены возможности высказаться о нем на панихиде?» — записал в дневнике критик Лев Левицкий. Таким образом, даже смерть того или иного советского писателя не избавляла его от идеологического контроля.
Присутствие Солженицына на похоронах Твардовского запомнилось многим. «Фотокорреспондентами овладело безумие. Они щелкали его так много и так долго, что стало неприятно. Сенсация загуляла, и центр внимания переместился с покойного на Солженицына», — утверждает Владимир Лакшин. 21-22 декабря Давид Самойлов, сравнивавший значение Александра Твардовского для русской журналистики с именем Николая Некрасова, отметил: «Похороны Твардовского. С трудом пробились сквозь вежливый кордон. Казенные речи. Корреспонденты щелкают Солженицына, забыв о покойном. Девушка в зале: „Как вам не стыдно!“ В ЦДЛ много писателей. Вокруг много милиции. А народу мало. Вечером в ЦДЛ разливанное пьянство. В зале, где лежал Твардовский, обычный концерт». Через много лет Андрей Михайлович Турков, желая сохранить некий «баланс» между уважением к мнению родственников Александра Трифоновича и официальным почтением к Александру Исаевичу, все же не смог удержаться от упрека: «Свою долю в напряженную атмосферу похорон внес Солженицын. Родные поэта предлагали ему проститься с Александром Трифоновичем накануне, в морге, где собрались близкие покойного. Однако Александр Исаевич сослался на занятость, явно желая, чтобы его прощание с поэтом имело публичный характер и получило огласку. Несмотря на все принятые меры, чтобы не пропустить Солженицына на панихиду, он все же проник в Центральный дом литераторов, и это „эффектное“ появление произвело сенсацию среди зарубежных корреспондентов, для которых „героем дня“ стал он. Продолжал Александр Исаевич привлекать к себе внимание и на Новодевичьем кладбище, где картинно осенил гроб крестом».

Декабрь 6, 2022
Счастье через горе от ума. О книге «Драма жизни Макса Вебера»
Книга Леонида Ионина — первая российская биография Макса Вебера, которая вводит отечественного читателя в круг вопросов современного вебероведения. В центре повествования — любовные отношения немецкого социолога и его психосексуальная конституция. Насколько удачным вышло сопоставление интимных обстоятельств с научным наследием, рассказывает Иван Напреенко.
Бессменный лидер академических рейтингов в жанре «главный социолог всех времен», Макс Вебер не обделен, мягко говоря, вниманием биографов. Пьедестал его памятнику поставила Марианна Вебер: уже через шесть лет после смерти мужа, в 1926 году, вышла ее книга «Жизнь и творчество Макса Вебера». В этой работе, написанной от третьего лица, социолог предстал тем, кого впоследствии канонизировал Карл Ясперс — светочем разума в науке, глыбой героического аскетизма в личной жизни. Десятилетиями этот образ шлифовали последователи и обыватели, греясь в сиянии чистого во всех отношениях гения.
Но уже в конце 1970-х с публикацией ранее неизвестных писем стали известны факты, которые этот образ сломали. Оказалось, что светильник разума охотно затуманивался сладострастными аффектами. Новые обстоятельства принялись жарко обсуждать биографы. Некоторым итогом этих дискуссий стала тысячестраничная биография Йоахима Радкау (2005), где внутреннему миру Вебера уделено особое внимание. К полуторавековому юбилею социолога в 2014 году вышли еще две огромные книги — Дирка Кеслера и Юргена Каубе, причем последнюю два года назад издали на русском. Столетнюю годовщину смерти Вебера в 2020-м отметили очередные биографии, в частности работа Гангольфа Хюбингера, одного из главных немецких вебероведов и издателей полного собрания сочинений социолога, которое собирали с 1980-х, но закончили в том же году.
На русском языке список работ о жизни Вебера несопоставимо короче, но мне известны по меньшей мере три: сомнительный, по некоторым данным, очерк Елены Кравченко (2002), тот самый труд Марианны Вебер (2007) и работа Каубе, которая удачно помещает творчество Вебера в исторический контекст (особенно в малоизвестный для нас контекст Германии 1910-х). В этом ряду книга Леонида Ионина — социолога, профессора ВШЭ, главного отечественного переводчика веберовских трудов — представляется первой российской биографией «буржуазного Маркса», которая вводит отечественного читателя в круг вопросов современного вебероведения.
Ионин обходится без предисловий и не предуведомляет читателя о тактике и стратегии своего изложения — и, вероятно, поэтому книга производит впечатление, которое производит: довольно неожиданное. Конечно, кое о чем говорит аннотация — «автор анализирует жизнь героя во всем богатстве ее проявлений», но о ней тут же забываешь, тем более что внимание на себя переключает ясный и раскованный язык биографа, сейчас так редко пишут. Портреты родителей, детство Вебера — с короткой остановкой на перенесенном в 4-летнем возрасте менингите, возможной причине грядущей «страшной болезни», — проносятся мимо; повествование летит к началу академической карьеры. Читатель догадывается, что перед нами работа о жизни совершеннолетнего Вебера, причем фокус всей истории звучит уже на 29-й странице: «во Фрайбурге [в 1894 году] произошло знакомство с женщиной, которая определит значительную часть жизни самого Вебера и едва ли не главную часть содержания этой книги». Речь об Эльзе фон Рихтхофен, в замужестве Эльзе Яффе, ученице и любовнице Макса. И даже несмотря на эту подсказку, понимание того, что в центре биографии лежит взятая крупным планом драма любовных отношений Вебера и его психосексуальной конституции — с проблемами поллюций и эрекций, — настигает читателя лишь в третьей главе.
О драме позже, а пока напомню читателю основные моменты официального жития: отпрыск богатой ткацкой семьи Максимилиан Карл Эмиль Вебер родился в 1864 году в Тюрингии. Уже в 30 лет он был вполне состоявшейся личностью — юрист, ординарный профессор в известном университете, блестящий оратор, плодовитый автор, у которого есть ученики. Причины раннего успеха — безумная работоспособность и, добавляет Ионин, высокие покровители. Солидности ученому добавляет женитьба: в 1893 году он сочетался браком с двоюродной племянницей Марианной.
 Марианна Вебер
Марианна Вебер
Через четыре года после свадьбы мерный ход жизни резко ломается: у Вебера возникают первые признаки нервного расстройства, которое полностью лишит его сна, покоя и работоспособности. Он вынужден отказаться от учебных обязательств, проводить месяцы в лечебницах, кажется, от полного распада его спасает лишь неустанная забота Марианны. Наконец в 1902 году недуг начинает отступать, оставив волевого мыслителя «самым нервным человеком на Земле». Вебер восстанавливается, хотя прежняя работоспособность не вернется никогда. Но он и так прекрасно справляется: в 1904—1905 годах выходит «Протестантская этика и дух капитализма», прокладывая ученому дорогу к мировой славе. В 1909-м Вебер вместе с Георгом Зиммелем, Фердинандом Тённисом и другими коллегами основывает Немецкое социологическое общество — и становится одним из его руководителей. Тогда же он берет на себя обязанности редактора многотомных «Основ социальной экономики»; этот проект выльется в его собственную работу «Хозяйство и общество», опубликованную уже после смерти автора. Кстати говоря, именно Ионин в начале 2000-х приступил к подготовке полной русскоязычной версии центрального веберовского труда, который наконец вышел в 2019 году в четырех томах.
В 1910-х социолог продолжает научную работу, он активный публицист и участник общественно-политической жизни — например, Вебер трудится на общественных началах в комиссии по выработке основ Веймарской конституции и едет с немецкой делегацией на мирные переговоры в Версаль. Но в возрасте 56 лет деятельного профессора Мюнхенского университета настигает пневмония — Макс Вебер умирает. Через шесть лет, в 1926-м, его открывает Толкотт Парсонс, запустив миф о Вебере как о единственном классике немецкой социологии. Чтобы коротко охарактеризовать, как Вебер воспринимается изнутри этой самой немецкой социологии, упомяну вслед за Иониным, что философ Эрик Фёгелин (он, кстати, занял в 1958 году кафедру Вебера в Мюнхене, пустовавшую со дня его смерти в 1920-м) причислял Вебера к «четырем великим», определившим суть модерна, — вместе с Карлом Марксом, Фридрихом Ницше и Зигмундом Фрейдом. Так, напомню, выглядит парадное жизнеописание аскетичного рационалиста, запущенное в оборот его женой.
За героическим фасадом, однако, все не так однозначно, причем настолько, что 80-летний Ясперс, узнав, что кумир не идеален, написал: «Предательство!» Но до обстоятельств предательства надо добраться. Ионин начинает книгу, приводя целиком письмо Вебера к будущей супруге. Это в высшем роде показательный документ: молодой ученый предлагает возлюбленной («великодушному товарищу») выйти «из тихой гавани резиньяции в открытое море, где в борьбе душ вырастают люди и преходящее спадает с них». Если отбросить до комизма высокопарную стилистику, говорит биограф, содержание послания можно резюмировать так: «молодой человек предлагает девушке выйти за него замуж при условии, что их брак будет если не радостно, то, во всяком случае, одобрительно воспринят другими потенциальными партнерами каждого из них — девушкой, на любовь которой не сумел ответить он, мужчиной, которому отказала она». Иными словами, перед нами не любовное письмо к одной-единственной с обещанием счастливой жизни, а сугубо этический документ, где в судьи над новыми отношениями призваны третьи лица. Марианна, надо сказать, как будто восприняла происходящее как должное. Вот как она описывает саму себя в каноническом житии: «Когда девушка прочла это письмо, ее потрясло невыразимое, вечное. Она больше ничего не желала. Все ее существование будет впредь благодарственной жертвой за дар этого часа».
Через четыре года после женитьбы происходит то, что Ионин называет «отцеубийством». А именно: после переезда семьи Вебер в Гейдельберг к ним приезжают погостить родители Макса. Сын жестоко ссорится с отцом из-за его неуважительного отношения к матери и выставляет его ночью за дверь. Через два месяца Вебер-старший умирает от сердечного приступа, но Макс, одаренный «исключительным чувством своей правоты», видимо, не страдает от чувства вины и практически сразу уезжает с женой отдыхать в Испанию. Тем не менее в конце года появляются первые признаки «страшной болезни».
Преуспевающий ученый внезапно теряет сон, а вместе с ним возможность концентрироваться, работать, выступать и вообще нормально жить. В личных документах той поры Вебер жалуется на невыносимые страдания, на ночные явления «демонов» и «мучителей», на «катастрофы». Их сопровождают чудовищные и непристойнейшие видения, которые изгоняют сон. Возможный диагноз и содержание видений нам уже не узнать, однако врачи, смотревшие Вебера, сходились в том, что недуг связан с расстройством половой функции. Один доктор даже предлагал ученого кастрировать, что Марианна подробно обсуждала в переписке со свекровью (как и многие прочие вещи). Если опустить подробности, то «синдром Вебера» можно описать как сочетание следующих симптомов: «импотенция, потеря работоспособности и интереса к жизни, а также патологическое отсутствие сна, сопровождаемое сексуальными фантазиями, сочетающееся с поллюциями и нежелательными эрекциями». Вопрос, зачем нам это надо знать, возникает, быть может, не у каждого читателя, но у многих — и во избежание недомолвок Ионин ставит его сам. К ответу на него вернемся позже, а пока досмотрим «драму жизни» до конца.
 Эльза Яффе
Эльза Яффе
Каким-то чудом — чудом любви Марианны — Вебер возвращается к жизни, чтобы пережить духовный подъем, написать великие тексты и испытать земную страсть. В его жизни возникают еще две женщины, помимо матери и жены. Первая — бывшая студентка Эльза Яффе, близкая подруга Марианны, жена издателя журнала «Архив социальной науки и социальной политики», где Вебер публиковал свои работы, любовница скандального психоаналитика Отто Гросса. Именно с ней социолог, по всей видимости, впервые познал физическую близость. В 1910-м их недолгий роман надломился: Эльза ушла к Альфреду Веберу, младшему брату Макса, и состояла с ним в отношениях до конца его жизни. Вторая женщина — пианистка Мина Тоблер, с которой Марианна также дружила: именно в отношениях с Миной, по данным биографов, Вебер обрел телесную уверенность в себе. В 1918 году роман с Эльзой вспыхивает с новой неописуемой силой; судя по страстной переписке, из которой до нас дошли только послания Вебера, биографы склонны считать его садомазохистским (с чем Ионин, впрочем, не согласен). Выбирая в 1918-м Эльзу, говорит автор биографии, ученый выбирал из двух сценариев будущего, где со стороны разума и расчета были уверенные перспективы «исследовательской профессуры» в Бонне, а со стороны чувств и риска — нестабильное будущее рядом с любовницей в Мюнхене (жена в любом случае оставалась рядом). «Можно сказать, что, делая выбор между поздней юностью и ранней старостью, — пишет Ионин, — он выбирал в конечном счете свою смерть».
В последние месяцы жизни, узнаем мы из книги, Вебер нередко писал в один день письма всем трем женщинам, используя при этом одни и те же ласковые обороты. Первый том «Хозяйства и общества» ученый посвятил матери, второй — жене, а третий и четвертый тома сама Марианна как душеприказчица и издательница посвятила Мине Тоблер и Эльзе Яффе.
Сделаем шаг назад — к «страшной болезни», а затем — к вопросу о том, можно и нужно ли рассуждать о веберовских эрекциях. Ионин трактует недуг, уничтоживший налаженную карьеру ученого, в рамке, которая кажется самоочевидной. Обстоятельства пригнаны очень плотно, судите сами. Асексуальный товарищеский брак, в котором, вероятно, не было даже консумации. Благоговейная любовь к набожной матери, которая воспринимала любую «чувственную страсть» как «обремененную виной и недостойную человека». После «убийства» плохого отца сын остается наедине с обожаемой, чистой, несправедливо обиженной матерью и... еще одной незапятнанной низкой страстью «матерью». Наконец, кара приходит изнутри — из бессознательного: чудовищные видения подрывают не только нравственные представления больного о самом себе, но и ставят под угрозу его физическое существование.
Ионин приводит цитату из очерка «Достоевский и отцеубийство» Фрейда, написанного через восемь лет после смерти Вебера: «отношение между личностью и отцом как объектом превратилось, сохранив содержание, в отношение между Я и Сверх-Я. Новая постановка на второй сцене». Биограф тут же продолжает: «Практически вся дальнейшая жизнь Макса Вебера получает свое — психоаналитическое— объяснение, если принять во внимание эту постановку „на второй сцене“».
Это очень хорошо — хотя для адекватной психоаналитической трактовки нам тут не хватает субъективного опыта самого Вебера, но неужели биограф находит в жизни своего героя лишь пугающе буквальную иллюстрацию логики Фрейда? Этот вопрос связан с иным вопросом, который мы задали выше: насколько правомерно ставить в центр повествования о жизни великого ученого его сексуальность и любовную жизнь?
 Элена Вебер, мать Макса Вебера
Элена Вебер, мать Макса Вебера
Ионин разделяет этот вопрос на два — об этичности подобного исследования и «о границах языка, допустимого в исследовании, претендующем на научность» — и отвечает на них расплывчато, демонстрируя своеобразное чувство юмора. В сухом остатке следуют две вещи. Во-первых, научный язык следует расширять, дабы иметь доступ к разные области опыта. Во-вторых, допустимость обсуждения интимной жизни исторических персон исторически обусловлена, а в данном конкретном случае опирается на респектабельную биографическую традицию — все технически доступные документы опубликованы еще Раткау, которому Ионин наследует. Однако важнее всего то, что, по словам Ионина, обращение к скандальным, казалось бы, деталям «должно помочь <...> уловить некоторые аспекты идей Вебера, традиционно ускользавшие от внимания исследователей. Ведь очевидно, что мышление происходит не в безвоздушном пространстве чистой логики, которая сама по себе есть продукт мыслительного процесса в живых организмах. <...> Достаточно констатировать самоочевидный факт зависимости идейных построений от того, в каких социальных и природных условиях, включая обстоятельства тела и здоровья, они совершаются».
Обратим внимание, что задача поставлена очень аккуратно: не найти в телесных обстоятельствах причинную основу содержания научных теорий, а посмотреть на научные теории как на возможный «продукт осмысления тяжелых страданий болезни и любовных переживаний», огрубляя — как на «результат близкого знакомства с демонами». В некотором смысле интенция Ионина похожа на то, что он сам называет «действительным тезисом Вебера» — по контрасту с «общеизвестным» тезисом Вебера, согласно которому в своей самой популярной книге социолог якобы утверждал, что протестантизм произвел на свет капитализм. «Действительный» же тезис биограф формулирует так: «Реформация породила религиозно обусловленный, методически рациональный образ жизни и профессиональную этику, которые лучше всего „подошли“ капиталистической организации хозяйства». Иначе говоря, между протестантской этикой и духом капитализма есть «избирательное сродство» — принимая в расчет первую, можно лучше понять устройство второго. Схожим образом, лишь не закрывая глаза на психосексуальные терзания и любовный опыт, можно занять «точку зрения, которая больше объясняет и позволяет увидеть композицию целого, то есть драмы жизни Макса Вебера».
Остается прояснить, достигается ли поставленная задача автором этой разносторонней и яркой работы, которая заслуживает быть прочитанной людьми с широкими гуманитарными интересами.
Что очевидно удается, так это повысить читательскую чувствительность к тому, насколько сквозной темой для Вебера являются нравственные ограничения (мучительная аскеза, отказ от наслаждений) в их связи с методически рациональной организацией жизни. Она также принимает форму знаменитого «расколдовывания мира», устранения из мира непознаваемого — т. е. процессов, в которых, по Веберу, заключается суть буржуазного модерна. От знания, что автору этих абстрактных идей сопутствует опыт изматывающей гиперномии и пребывания в «стальном панцире», эти идеи не становятся истиннее. Однако они как бы уплотняются и насыщаются, становятся социологически понятнее.
Особую силу избирательное родство опыта и мысли обретает в толковании Иониным не самого известного, но важного текста из «Хозяйственной этики мировых религий». Полное название статьи, о которой идет речь, — «Промежуточное рассмотрение. Теория уровней и направлений религиозного неприятия мира» (1913); именно ее предлагал Вебер обсудить Эльзе, когда «глубокоуважаемому учителю будет позволено сидеть (или лежать) у ног своей ученицы». В этом тексте ученый указывает, что религиозная этика братской любви и логика религий спасений в целом находится в глубоком противоречии с искусством и сексуальностью. Проводя свою характерную диссекцию-классификацию, Вебер приходит к выводу, что эротику необходимо вынести за пределы этического рассмотрения, поскольку для влюбленных есть знак судьбы, но для ищущих религиозного спасения — демоническая случайность, не укладывающаяся в нравственную оценку.
 Мина Тоблер
Мина Тоблер
Ионин указывает здесь на тонкое сходство между рассуждениями Вебера и наблюдениями его любовницы Мины, и в этом указании нет ни малейшего ощущения вульгарного сближения — но, напротив, логическая рифма. За рациональной классификацией как будто просматривается умственное решение внутренних конфликтов, как если бы ученый в начале 1910-х наконец-то нашел способ обращения с демонами. Уместно вслед за биографом прочитать его поздние письма к Эльзе, в которых ученый ругает свой «чуждый любви холодный мозг», который, однако, «был последним спасением, тем, что оставалось „чистым“ против бесов, которые играли со мной в свои игры, когда я болел (да часто и раньше)». Хитрый баланс между этикой, разумом и страстями, найденный Вебером ближе к пятому десятку, впечатляет не меньше, чем пирамида человеческих отношений (Макс — его мать — Марианна — Эльза — Альфред — муж Эльзы — любовник Эльзы — Мина и др.), в котором этот баланс воплощался. Оба построения выглядят изящно, хотя высчитать меру страданий, скрытых за ними, вряд ли возможно.
Наконец, Ионин произносит свое слово в дискуссии биографов о веберовском мазохизме, утверждая, что «роковая страсть Макса Вебера — это по разряду не сексопатологии, а социологии господства». Леонид Григорьевич напоминает, что господство по Веберу (не путать с властью) — это вероятность того, что человек или люди будут повиноваться некоему приказу или приказам; иными словами, отношения господства подразумевают некий минимум желания подчиняться в ответ на желание господствовать. В дело идет тревожный пассаж из «Промежуточного рассмотрения», где Вебер говорит следующее: чем более сублимированы (не в смысле Фрейда, а в смысле удаленности от природного состояния) сексуальные отношения, тем больше в них элемента брутальности. И чем тоньше эротическое господство, тем более интенсивный характер внутри этих отношений носит тайное «изнасилование» «более брутальным партнером» души партнера менее брутального за счет «симуляции человечнейшей самоотдачи и наслаждения самим собой в другом». Под «более брутальным» в этом тезисе Ионин предлагает понимать Вебера, а под жертвой его тайного, но желанного насилия — Эльзу. Произведя перестановку ролей внутри того, что кажется рабским возлежанием учителя у ног ученицы с плеткой, Ионин делает вывод, что профессор был вовсе не мазохистом, а садистом и слово «брутальный» в его «Рассмотрении» следует трактовать как «садистический».
Этот тройной переворот — не жертва «сексопатологии», а реализатор концепта господства, и не слуга, а на самом деле хозяин — выглядит эффектно. Однако утверждая, что то, что мы принимаем за мазохизм, есть отношение добровольного подчинения (т. е. господства), Ионин ровным счетом ничего не опровергает. С психоаналитической точки зрения, предложенной самим биографом в качестве базовой рамки для анализа, здесь нет никакого переворота. Тот же Лакан характеризовал мазохиста как «иронического господина». Этот «господин» жаждет контрактным (легальным!) образом оформить отношения со своим владельцем, который вознесен «симуляцией человечнейшей самоотдачи» — и потому отчасти одурачен. Оттого финальный твист биографа, предлагающий увидеть в рыцаре рациональности изощренного садиста, предстает вишенкой на вишенке на торте — чем-то явно лишним.

Декабрь 3, 2022
Как рынки развивающихся стран боролись с приходом коронавируса
Волнение, охватившее рынки развивающихся и бедных стран в начале 2020 г., все больше усиливалось. Согласно данным экономистов из Института международных финансов, организации, представляющей крупнейшие мировые банки, в период с середины января по середину мая 2020 г. в 21 крупной развивающейся стране с рынков акций и облигаций за границу было выведено 301 млрд долларов. Это более чем в 4 раза превышало размер оттока, который произошел в этих странах в связи с начавшимся глобальным финансовым кризисом в сентябре 2008 г. Заемщики в странах Африки южнее Сахары пребывали в отчаянии, поскольку начиная с февраля практически все финансовые рынки для них были закрыты. Однако ущерб был нанесен не только им. Под удар попали и гораздо более сильные экономики.
Имея годовой объем производства более 3 трлн долларов по паритету покупательной способности, Бразилия является гигантом среди развивающихся стран. По сравнению с ней остальные страны Латинской Америки выглядят карликами. Бразилия стоит в ряду таких стран, как Индонезия и Россия. Ее обгоняют только Китай и Индия. Весной 2020 г. финансовую сферу Бразилии начало сильно штормить. Буквально за несколько месяцев курс бразильской валюты упал на 25%. Это тяжело ударило по тем, кто закупал импортные товары или погашал задолженности, деноминированные в долларах. К концу марта стоимость акций на рынке ценных бумаг в Сан-Паулу упала почти вполовину. Стоимость страхования от дефолта по пятилетним государственным облигациям взлетела с низкого уровня в 100 базовых пунктов в середине февраля до 374 базовых пунктов через месяц. Это вызвало повышение стоимости кредитования. Очень сильное давление оказывало и стремительное падение цен на сырье. Произошло обесценение облигаций гигантских бразильских компаний, обладающих огромными финансовыми ресурсами, таких как нефтяная компания Petrobras и горнодобывающая компания Vale: их долгосрочные облигации, деноминированные в иностранной валюте, потеряли от 30 до 40 центов на доллар. В обычной ситуации этого было бы уже достаточно, чтобы они оказались в категории проблемных компаний с плохими долгами. «Все произошло слишком быстро, — сказал один из экспертов по рынкам облигаций. — Люди не думали о восстановительной стоимости; падение цен было связано только с паническими настроениями».
Как выдержат этот шторм рынки развивающихся стран? Не случится ли так, что финансовый кризис лишит их возможности дать достойный ответ пандемии? Окажут ли им поддержку развитые страны и международные финансовые институты, в которых большинство голосов принадлежит американцам и европейцам, или только усилят давление на них? Коронавирусный кризис стал важной проверкой на прочность экономического режима не только развитых стран, но и всего мира.
Хотя в 2020 г. бегство капитала стало поразительно масштабным, это была далеко не первая финансовая буря, которая нанесла серьезный ущерб развивающимся странам. Начиная с 1990-х гг. экономический рост так называемых развивающихся рынков был историей успеха мировой экономики. В разных странах мира, имевших низкую стартовую базу, был достигнут значительный рост благосостояния, коснувшийся огромного количества людей. Однако этот рост был неравномерным и нестабильным. Он прерывался кризисами: в 1997 г. — в Восточной Азии, в 1998 г. — в России, в 2001 г. — в Аргентине и Турции. Благодаря экономическому росту Китая развивающиеся страны смогли пережить глобальный финансовый кризис 2008 г. относительно спокойно. Однако стоило Федеральной резервной системе в 2013 г. только намекнуть о гипотетической возможности повышения процентной ставки, как на финансовых рынках началась паника, которая привела к оттоку денег из развивающихся стран в США. На следующий год все пошло наперекосяк на товарных рынках. В Нигерии и Анголе, крупнейших экспортерах нефти в Африке южнее Сахары, упал доход на душу населения. Резко ухудшилась экономическая обстановка в Венесуэле. В Бразилии началась сильнейшая рецессия. Дело не обошлось и без политических проблем. В 2014 г. в Таиланде произошел государственный переворот. В период неэффективного руководства страной при президенте Джейкобе Зуме практически прекратился экономический рост ЮАР. Уровень безработицы в небольших городах достиг почти 25%. Оказалось, что от сбоев не защищен даже Китай — движущая сила мирового экономического роста. В 2015 г. рухнул шанхайский фондовый рынок, курс китайского юаня упал, и из Китая были выведены валютные активы на сумму 1 трлн долларов. Пекину удалось предпринять меры противодействия, но замедление темпов роста усилило давление на товарные цены.
Несмотря на эти негативные факторы, в условиях, когда мировые процентные ставки были на крайне низком уровне, заемщики из развивающихся стран продолжали поиски потенциальных кредиторов. Развивающиеся страны находились на наиболее перспективном фланге финансового развития. К 2019 г. внешние долги стран со средним доходом на душу населения — развивающихся стран в прямом смысле этого слова — составили 7,69 трлн долларов. Из этой суммы 484 млрд долларов составляли долгосрочные облигации, которыми владели частные инвесторы, 2 млрд долларов приходилось на долю долгосрочных банковских кредитов, а 2,1 млрд доллара — на краткосрочные кредиты. За 5 лет, с 2014 по 2019 г., увеличились долги даже бедных стран, которые относятся к наиболее рискованной категории заемщиков: их долги в твердой валюте выросли втрое — до суммы более чем 200 млрд долларов. Все больше стран с низким и средним уровнями доходов присоединялись к системе рыночного финансирования на условиях, которые Даниэла Габор называет «консенсусом Уолл-стрит», чтобы не путать их с «вашингтонским консенсусом» 1990-х гг. В этом новом мире глобального финансирования такие институты, как МВФ или Всемирный банк, выступали в качестве дополнительных инструментов, которые использовали не только большие банки, но и менеджеры по управлению активами, а также трейдеры на рынках облигаций и деривативов. Возникал большой соблазн стать членом этой системы. Это открывало широкие возможности для кредитования на условиях, которые казались весьма привлекательными. Главный вопрос состоял в том, насколько стабильной была эта система и кто возьмет на себя риски в случае, если наступят тяжелые времена.
Противники глобализации предостерегали, что эти долги повиснут над развивающимися странами как дамоклов меч. Открывая двери международному финансированию, они отдавали себя на милость глобального кредитного цикла. Если бы условия кредитования ужесточились, а доллар укрепился, они могли бы столкнуться с внезапным прекращением внешнего финансирования. Тогда они были бы вынуждены пойти на такую мучительную процедуру, как сокращение расходов, что причинило бы огромные страдания сотням миллионов людей, находящихся в уязвимом положении, и поставило бы под угрозу как будущий экономический рост этих развивающихся стран, так и их политическую стабильность. В конце 2019 г. почти половина стран, имеющих минимальные доходы, уже переживали долговой кризис.
Имея многолетний опыт, развивающиеся страны осознавали опасность, но, вместо того чтобы просто принять свою судьбу, они предпочли учиться. Начиная с 1990-х гг. они разработали целый репертуар экономических мероприятий, с помощью которых можно было управлять рисками, возникающими со стороны глобальной финансовой системы. Создание этого набора инструментов было компромиссом между ключевыми элементами вашингтонского консенсуса свободного рынка и политикой более активного государственного вмешательства. Хеджирование рисков глобальной интеграции тоже не было бесплатным. Кроме того, новый набор инструментов экономической политики не давал гарантий полной автономии. Рынки развивающихся стран еще не освоили магические заклинания, которые помогли бы им «вернуть контроль». Да и дело было совсем не в этом. Развивающиеся страны нашли способ, как сделать риски глобализации более контролируемыми. Откровенно говоря, именно это всех и устраивало. Фонды-стервятники могут жить за счет отчаявшихся должников. Капитализм катастроф становился реальностью. Но это было проблемой самих развивающихся стран. Крупные банки и управляющие фондами больше всего хотели, чтобы центральные банки и казначейства развивающихся стран стали надежной опорой, основанной на долларе системе Уолл-стрит.
В первую очередь нужно было минимизировать размеры суверенных займов в иностранной валюте. Насколько это было возможно, уже с 2000-х гг. правительства развивающихся стран поступали точно так же, как и правительства развитых стран: заимствование финансовых средств как от граждан своей страны, так и от иностранных кредиторов осуществлялось ими в национальной валюте. По сути, это позволяло национальным центральным банкам сохранять полный контроль над погашением кредитов. В качестве крайней меры они могли просто произвести дополнительную эмиссию. Правда, это грозило инфляцией и обрушением курса их валюты, зато полностью снимало с повестки дня вопрос о невозможности немедленно оплатить долги. Аргентина, пережившая дефолт в 2020 г., в эту схему не вписывалась. 80% ее государственного долга было номинировано в зарубежной валюте, что вызывало недоверие как у внутренних, так и у внешних инвесторов. В Индонезии доля заимствований в местной валюте составляла более 70%, а в Таиланде — почти 100%. Можно было бы предположить, что из-за такой структуры займов зарубежные компании не будут заинтересованы в инвестициях в этих странах, однако в мире с очень низкими процентными ставками желающих было немало. При наличии рынка суверенных облигаций, выпущенных в национальной валюте, можно было попытать счастья, организовав систему рыночного финансирования, которая включала бы рынок ценных бумаг, рынок деривативов и рынок репо. В Перу, Южной Африке и Индонезии еще до кризиса 40% государственных облигаций, выпущенных в национальной валюте, находились в руках зарубежных инвесторов. Это, однако, не уменьшало риски финансовой паники. Ведь риск крупномасштабной паники возникает на более крупных и разветвленных рынках облигаций. Как и в экономически развитых странах, в ситуацию мог бы вмешаться центральный банк. С другой стороны, западные кредиторы несли риски, которые возникали из-за флуктуаций цен на облигации и изменений валютных курсов.
Второй важнейшей задачей было не допустить уменьшения валютных рисков для иностранных кредиторов путем установления фиксированного обменного курса. В результате фиксирования курса национальной валюты относительно доллара или евро создавалась бы иллюзия стабильности. В хорошие времена такая ситуация привлекла бы избыточный приток зарубежного капитала. В плохое время деньги утекали бы из страны, и в этом случае поддержание фиксированного курса оказалось бы бесполезной и дорогостоящей процедурой. В такой ситуации в наличии было бы слишком много горячих денег, которыми могли бы распоряжаться как иностранные, так и местные инвесторы. Было бы лучше позволить всей этой денежной массе покинуть страну, однако при этом инвесторы понесли бы большие потери, связанные с девальвацией местной валюты. Если же инвесторы захотели бы хеджировать свои риски, то им не стоило забывать о существовании рынков деривативов.
Очень болезненной оказалась сильная девальвация национальных валют. В связи с этим самые большие потери понесли импортеры, которым приходилось покупать товары по более дорогой цене, а также те неудачники, которые неосмотрительно кредитовались в долларах. Если такую внезапную девальвацию вовремя не остановить, она может выйти из-под контроля. Тогда у национальных правительств не будет иной альтернативы, кроме как резко поднять процентные ставки. Но это только усугубило бы и без того тяжелую ситуацию. Чтобы уменьшить эти риски, было решено не стремиться удерживать обменный курс на каком-то определенном фиксированном уровне, а прибегнуть к интервенциям, что могло бы замедлить темпы падения обменного курса. Для этого правительствам были необходимы значительные резервы иностранной валюты. С начала нового тысячелетия Китай нарастил свои резервы до рекордного уровня в 4 трлн долларов в 2014 г. По этому показателю с Китаем никто не мог сравниться. Однако Таиланд, Индонезия, Россия и Бразилия тоже накопили достаточно большие резервы иностранной валюты. В общей сложности к началу 2020 г. резервы иностранной валюты стран с развивающимися рынками, помимо Китая, составляли 2,6 трлн доллара.
Там, где национальных резервов было недостаточно, можно было создать региональные сети, которые позволяли разным странам объединять ресурсы и оказывать друг другу поддержку при управлении потоками капитала. В этом отношении впереди всех была Азия, в которой имелась сеть Чиангмай. В Латинской Америке и в Африке южнее Сахары такой прочной региональной финансовой сети не было. В случае экстраординарной ситуации этим странам пришлось бы рассчитывать только на МВФ или на помощь дружеских центральных банков в форме установления своп-линий ликвидности. Ядро таких своп-линий составляли долларовые линии, впервые введенные ФРС и используемые с 2007 г. Эти линии были зарезервированы только для наиболее привилегированных стран с развивающимися рынками, причем двумя кандидатами, выбранными в 2008 и 2020 гг., являлись Мексика и Бразилия соответственно. Начиная с 2008 г., кроме финансовой сети ФРС, свои линии ликвидности стали создавать некоторые другие центральные банки, в частности Банк Японии и Народный банк Китая.
Если абстрактно рассуждать о финансовых потоках, то можно упустить из виду тот факт, что их движение во многом определяли крупные предприятия и финансовые компании, а также небольшое количество сверхбогатых людей. Банкротство банка Lehman Brothers в 2008 г. наглядно продемонстрировало, какой урон всей системе может нанести крах одного банка. После этого широкое распространение получило так называемое макропруденциальное регулирование — поэтапное системное регулирование важных финансовых институтов. Для развивающихся стран это означало проверку того, в какой степени подвержены валютному риску крупные банки и иные корпорации, банкротство которых может нанести ощутимый ущерб национальной экономике. Такое регулирование было слишком явным вмешательством в дела финансовых и промышленных институтов и в любой момент могло спровоцировать появление оппозиции в деловых кругах. Однако это было исключительно важное мероприятие по поддержанию финансовой стабильности.
И наконец, если все другие меры не дадут желаемого результата, то контроль над капиталом перестанет быть табу. В период между 1970-ми и 1990-ми гг. представители неолиберализма неоднократно организовывали большие крестовые походы в поддержку либерализации движения капитала через границы. Однако ФРС, Европейский центральный банк и Банк Японии занимались масштабным манипулированием своих рынков облигаций, перемещая триллионы долларов по всему миру в поисках выгодных сделок. В такой ситуации даже МВФ и Банк международных расчетов были вынуждены признать, что развивающиеся страны имеют полное право использовать любые меры по предотвращению притока капитала, а если возникнет такая необходимость, то и замедлять его отток. Ведь в конечном счете невозможно было делать вид, что движение капитала в 2010 г., вызванное политикой центрального банка на Западе и поддержанное стремительным развитием государственного капитализма в Китае, соответствовало понятию, которое обычно называется рыночными силами. Такие процессы, как «тихая революция» в области фискальной и монетарной политики, происходившая в развитых странах, а также все большее вмешательство Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка и Банка Японии в деятельность рынков облигаций, не могли не оказать влияния на развивающиеся страны.
В отчете Банка международных расчетов за 2019 г. отмечалось, что в вопросах управления рисками финансовой глобализации практика намного обогнала теорию. За более чем 25 лет те развивающиеся страны, у которых имелся опыт в финансовых вопросах, научились справляться с волатильностью глобальных потоков капитала. Для этого появился новый набор инструментов, которому, правда, не хватало громкого названия типа «вашингтонский консенсус». Опыт приобретали и международные финансовые институты, такие как Международный валютный фонд. Хотя при реализации национальных программ МВФ по-прежнему выдвигал весьма жесткие условия, он хотел бы видеть себя в роли готового к сотрудничеству и способного к самооценке партнера по так называемой Глобальной сети финансовой безопасности. Его главная функция, по крайней мере так он теперь ее понимал, состояла не в том, чтобы навести дисциплину и порядок в вышедших из-под контроля суверенных странах. Его миссия заключалась в том, чтобы помочь развивающимся странам приобрести навыки, необходимые для успешного маневрирования в мире рыночных финансов. Вряд ли стоит лишний раз повторять, что все это расширяло поле деятельности торговцев облигациями, финансовых консультантов и менеджеров по управлению активами. Финансовая глобализация была уже свершившимся фактом.
В 2020 г. встал вопрос о том, удастся ли консенсусу Уолл-стрит и новому набору финансовых инструментов развивающихся стран выстоять под ударом тяжелейшего стресса. Смогут ли заемщики развивающихся стран сохранить доступ к финансовой системе, основанной на долларе? Поставят ли они во главу угла интересы их национальных экономик, или, как это часто случалось, будут вынуждены поднять процентные ставки и снизить расходы для того, чтобы замедлить отток капитала?
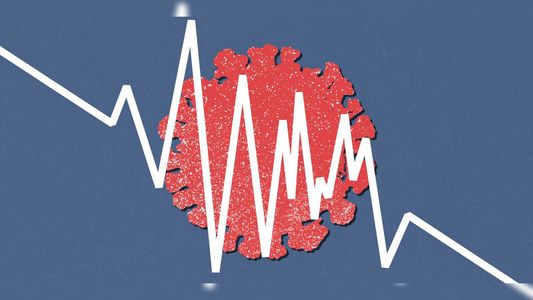
Advertisement


Контакты
biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm
+993 12 237795
+993 12 237792
Адрес
Проспект Битарап Туркменистан,
дом 593, г. Ашхабад, Туркменистан, 744000


- Политика
- Экономика
- Торговля
- Спорт
- Литература
- Сельское хозяйство
- Общество
- Публицистика
- Из библиотеки редакции
- Медиа
© Все права защищены.

